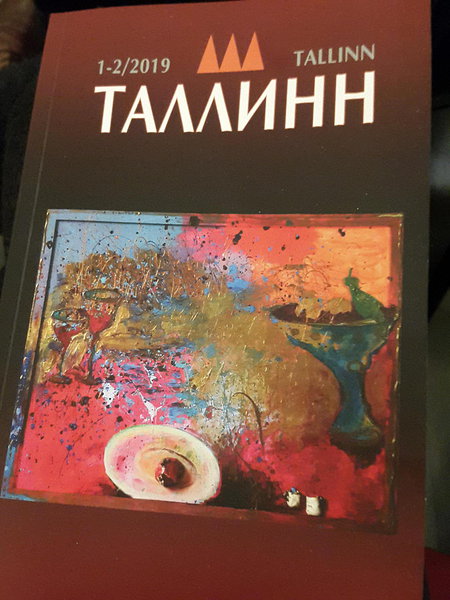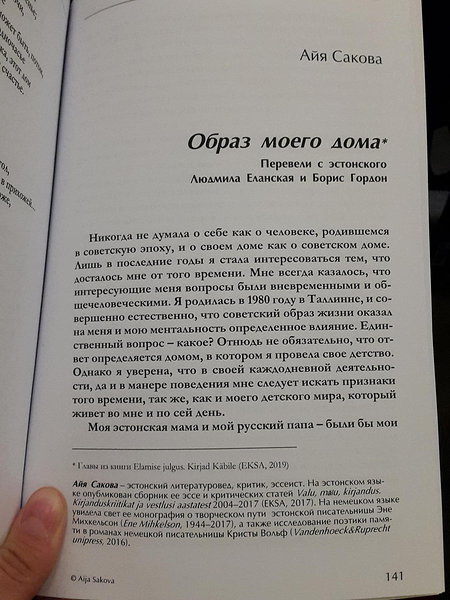Айя Сакова
Перевели с эстонского Людмила Еланская и Борис Гордон.
Огромное
спасибо!
Отпечатано немного короче в журнале "Таллинн" (2019).
Я никогда не думала о себе как о человеке, родившемся в советское время, и
о своём доме как о советском доме. Лишь в последние годы я стала интересоваться
тем, что по праву дадено мне советским временем. Мне всегда казалось, что интересующие
меня вопросы были вневременными и общечеловеческими. Однако абсолютно верно,
что, родившись в 1980 году в Таллинне, я принадлежу к советскому периоду, и,
естественно, он оказал на меня и мой
менталитет определённое влияние. Единственный вопрос – какое? Необязательно, что ответ на него
определяется домом, в котором я провела своё детство. Однако я уверена, что в
своей каждодневной деятельности, да и в манере поведения мне следует искать
признаки того времени, так же, как и мой детский мир, который живёт во мне и по
сей день.
Мои эстонская мама и мой русский папа
Можно задаться вопросом, были бы мои родители-художники другими, если бы они не родились непосредственно сразу после Второй мировой войны, мама в 1946 г., а папа в 1947 г. Наверняка были бы, но какими – этого я не знаю. Могу лишь предположить, что моя мама (чья мать и ближайшие родственники уже стали городской интеллигенцией, в основном учителями, а отец и его родители были зажиточными хуторянами в Вильяндимаа), выросла бы в буржуазном обществе вероятнее всего в интеллигентной семье с приличным достатком.
Жизнь и судьба моего отца настолько сильно отличается от семейного уклада его детства, что практически сложно оценить, какой могла бы быть его жизнь в других условиях и при другом строе. Оба его родителя родом из простых крестьян Средней полосы России и их жизнь и судьба сложились полностью под влиянием Второй мировой войны. Отец моего отца провёл в водовороте войны общей сложностью восемь лет, кроме всего прочего он участвовал в защите Сталинграда, а также в предшествовавшем Второй мировой войне приграничном конфликте между Советским Союзом и Японией. Даже мать моего отца была активной участницей в боевых действиях в качестве радистки, и в моих воспоминаниях она запечатлена как ветеран с медалями на груди. Мой отец же в довольно раннем возрасте сбежал из отчего дома из-за глубокой любви к искусству, и он стал, несмотря на увещевания и ожидания родителей, не инженером, а художником.
Я верю, что моих родителей, которых связывает, по моему мнению, становление художниками вопреки всем обратным ожиданиям, сформировало советское время, – как в положительном, так и в отрицательном ключе, впрочем, разумеется, и меня.
Я родилась 5 декабря 1980 года как первая дочь эстонского керамика Керсти Кару и русского художника-монументалиста Валерия Сакова. Позднее в нашей семье родилась и моя сестра Марья, важная спутница в моей жизни. Мне всегда казалось важным подчеркнуть, что мой отец не был из местных русских довоенной Эстонии, а был российским русским, и что его дом в Северодвинске, который находится под Архангельском, это Русский Север. В Эстонии живём мы, его дочери, и жена. Мои родители поженились за несколько месяцев до моего рождения и женаты по сей день. Пребывание моего отца здесь или наезды бывают то длиннее, то короче, однако его дом всё же там, далеко на севере России, и это им самим выбранный дом, так как родился и вырос он в Средней полосе России, под городом Горьким (ныне Нижний Новгород), в Дзержинске.
Для меня было естественным, что меня воспитывала мама, а папа время от времени приезжал в гости. Лишь позднее я поняла, что обычное замужество выглядит иначе. Также для меня было естественным, что у нас с мамой были разные фамилии, так как мама, выходя замуж 33-хлетней художницей уже с именем, предпочла сохранить свою эстонскую фамилию. При этом различие наших с мамой фамилий давало мне понять, что я не совсем эстонка, как другие окружающие меня люди.
Нашим домашним языком был эстонский, так как бóльшую часть времени мы с сестрой и мамой жили втроём. Однако, когда приезжал папа, то с ним мы все говорили по-русски. Мама с папой до сих пор общаются на русском. Родственники, всё ещё не понимая, иногда спрашивают, почему наш папа до сих пор эстонский не выучил? Одна из причин наврняка состоит в том, что у папы, в отличие от меня, нет способностей к языкам. Однако основной причиной является то, что его дом всё же не здесь. И это не хорошо и не плохо, это просто так есть.
Для меня было нормальным говорить на двух языках разом или параллельно. И это наверняка в значительной степени повлияло на мою дальнейшую жизнь.
На углу улиц Фельмани и Вазе
Домом, в котором я выросла, была коммуналка в трёхэтажном белом каменном здании в Кадриорге, на углу улиц Фельмани и Вазе, вблизи Телецентра. Рядом с моим домом находился валютный магазин Альбатрос. Не припомню, чтобы я жаждала зайти в этот магазин или чтобы следила за его покупателями. Это был просто один небольшой дом, в котором находился магазин для избранных, по словам мамы, в основном для моряков. Помню и то, как приходилось залезать на крышу того дома в поисках теннисного мячика, который улетал туда, когда мы били им о стенку.
Наш дом должен бы быть особенным домом, так как в его подвале, куда нам редко приходилось наведываться, находились остатки бывшего бассейна. Это было действительно здорово – жить в доме, в подвале которого когда-то находился бассейн. При этом я недоумевала, почему бассейн не приведут в порядок, чтобы использовать его по прямому назначению? Почтовые ящики нашего дома также были с буржуазного времени, как я теперь догадываюсь. Они были деревянные, с инкрустацией и очень красивые.
Наша квартира номер 8 располагалась на третьем этаже, и была средней, что означало, что её дверь была в два раза шире и значительно выше, чем двери у квартир с двух сторон от нашей. Сама квартира была разделена на две части: у наших соседей, семьи из четырёх человек, папы, мамы и двух дочерей, немногим старше нас, была половина квартиры, т.е. две комнаты, а у нас вторая половина, т.е. также две комнаты, кухня же была общей. Кроме того, у нас была ещё шафрейка, а также бывшая каморка с окном для прислуги. Если первой в основном пользовался папа для хранения своих художественных принадлежностей, эскизов и картин, то во второй находились мамины принадлежности керамиста, а также кухонная утварь и продукты, которые в узкую общую кухню не помещались.
Хотя распространено мнение, что семьи, живщие на общей кухне, не ладили между собой, то у нас было всё иначе. У нас с соседями взаимоотношения были хорошие. Мама позднее признавалась, что для неё, которая часто работала по вечерам, соседи были прямо-таки благодатью, ведь при необходимости они могли присмотреть за нами. В детстве мы часто играли с соседскими девочками, и нам это нравилось. Конечно, нас учили, что нельзя заходить к соседям без разрешения. Весной или осенью дядя Мати и тетя Реэт (по фамилии Вахтрамяэ) брали нас вместе со своими детьми или даже, когда их дочери были уже большие, то и одних, на свою дачу в Кийза. У Мати была машина, а в нашей семье не было. Если тетя Реэт была чуть построже, то дядя Мати был одним из самых добрых и мирных людей из моего детства. Позже, когда обе наши семьи переехали в Ласнамяэ по разным квартирам, то мы время от времени ходили друг к другу в гости. С дочерьми этой семьи Хеди и Малле у меня по-прежнему отношения очень тёплые, хотя теперь мы встречаемся уже не так часто.
Квартира, в которой мы жили, была последним жильём Анетте, сестры маминого дедушки. Анетте Марие Вильбасте (урождённой Мянд, по первому мужу Рютмик) была дважды замужем: ее вторым и последним мужем в период с 1939 по 1967 год был известный ботаник Густав Вильбасте, а первым её мужем – промышленник и фабрикант Йоханнес Рютмик, он умер в 1937 году. Но у Анетте самой не было детей, и моя мама была ей вместо дочери. Анетте умерла всего за несколько месяцев до моего рождения и лишь через месяц после того, как мои родители поженились. Хотя я никогда не встречала Анетте, она присутствовала в моем детстве. Весь интерьер квартиры вокруг меня – от мебели до вышитого постельного белья и посуды – наследие Анетте, в основном со времён брака Анетте и Йоханнеса Рютмика, когда пара жила в Нымме (Лийва-Ристи). Только позже я поняла, что есть каждый день мельхиоровыми ложками-вилками не было обычным делом. В нашей же семье были мельхиоровые приборы для повседневного использования и столовое серебро для торжественных случаев. На последних были выгравированы вензеля, в основном AР.
Моя мама поселилась у Анетте после смерти Густава Вильбасте в 1971 году, когда она окончила Эстонскую художественную академию и начала работать в ARS-е. Нам пришлось освободить эту квартиру по адресу Фельмани 15 / Вазе 14 в 1996 году, когда она была возвращена первоначальным владельцам, которые продали ее фирме по недвижимости Оберхаус. Нашим вторым домом стала трехкомнатная квартира на верхнем этаже девятиэтажного дома в Ласнамяэ, район Мустакиви. Старая мебель Анетте также переселилась вместе с нами, однако в тех комнатах с низкими потолками она выглядела как-то особенно контрастно.
Я привыкла жить среди старинной резной деревянной мебели. Я привыкла к необходимости постоянного склеивания стульев и перетягивания обивки на стульях, а также к тому, что двери шкафов не всегда должным образом закрывались или ящики стола могли не открываться.
Папа относился к нашей домашней обстановке с уважением, однако иногда от незнания и неумения чинил шпунтованную мебель гвоздями или же красил её, хотя этого можно было и не делать. По большей части он всё же старался мебель реставрировать, и относился к этому осознанно, особенно заменяя её обивку и кожаные чехлы. Тем не менее, мой деревянный стол и настенный шкафчик он выкрасил в белый цвет. Возможно, ему казалось, что это привносит немного света в нашу квартиру, которая в основном была в довольно темных тонах.
В качестве контраста с нашей старинной мебелью эстонского времени наше трёхкомнатное жильё начинало всё больше и больше заполняться как маминой керамикой, так и картинами папы и мамы. Занятия искусством были также частью моей повседневной жизни и жизни моей сестры. У нас дома всегда была глина, и наша мама давала нам сначала лепить из неё шарики, из которых мы делали ожерелья, а позднее мы страстно вылепляли различных птиц и животных (кошек, змей, обезьян, медведей и т.д.). Затем появились чашки, вазы и миски. Я уверена, что в детстве у меня не было ни одного такого друга, которому я не подарила бы или глиняную кружку, или картину, написанную маслом. Позже, когда мы проводали лето у подруги мамы в Пудисоо, то под руководством моего папы мы страстно писали тамошний пейзаж с можжевельником и всякими насекомыми. Мы отлавливали какую-нибудь стрекозу, жука или муравья, сажали его в стеклянную банку, проделывали в крышке отверстия для воздуха и принимались втроём – папа, я и сестра – его на полотне запечатлевать. Из этих «художественных лагерей» сохранилась целая серия портретов насекомых, папина мечта – сделать когда-нибудь из этого выставку.
Для меня было обыденным жить в квартире, все стены которой увешаны картинами. Точно так же, как было обычным делом самой заниматься глиняными поделками и писать маслом.
Как-то раз, когда папа занимался крупной настенной картиной, вероятно, что это была фреска, то он эскиз этой картины изобразил на стене нашей гостиной. Мама всё же заставила вскоре эту стену закрасить, так как с ней рядом невозможно было себя чувствовать свободно, по-домашнему. Позднее в гостиной над маминой кроватью в течение многих лет висела папина копия с картины Питера Брейгеля Старшего «Сенокос» („The Hay Harvest“, 1565) в оригинальную величину. Папа, чтобы набить руку, писал копии многих известных мастеров. «Сенокос» в его исполнении был действительно хорош. Голландская живопись в роскошной позолоченной раме среди нашей резной деревянной мебели в каком-то смысле была на своём месте. Она привнесла толику лета в нашу осенне-зимне-весеннюю жизнь. Под конец эта картина стала нас напрягать. Хотя мы и взяли её в нашу ласнамяэскую квартиру, однако туда по- настоящему она никак не вписывалась и родители в конце концов её просто продали. Однако «Сенокос» навсегда останется частичкой моего детства.
К моему детству относится и круглый стол на одной толстой ноге в центре
гостиной, с тонкими стульями. Почему-то мне понравился этот стол. Возможно,
потому что на нём было приятно рисовать, а может, потому, что он находился под
большим трехстворчатым окном нашей гостиной и рядом с широким закруглённым
подоконником. Мне почему-то нравилось вставать на этот подоконник и так смотреть
в окно, хотя моя мама мне этого не позволяла.
Дорогá
мне и мебель моей, совместно с моей сестрой, спальни, которая была обставлена и
ранее являлась спальней моих предков Анетте и Густава. Две большие деревянные
кровати, с двумя низкими тумбочками, трёхстворчатым
зеркальным шкафом с широким сиденьем и комодом для одежды. Мне нетрудно и сегодня
представить себе ручки этих шкафов и резные шишечки-цветочки, а также ощутить их кончиками пальцев.
С особым уважением я относилась к баночкам трёх размеров со специями, находящимся на верхней полке нашего кухонного шкафчика. Я до сих пор помню их надписи на эстонском языке и запахи находящихся в них пряностей, хотя обычно моя мама не позволяла мне к ним прикасаться. Крышки этих баночек когда-то раскололись, но были вновь аккуратно склеены.
Ещё к дому моего детства принадлежали большие растения – столетники. Они были действительно мощными. Большим и раскидистым был также медово-сладко пахнувший восковой плющ, который, насколько я помню, заполнял всё окно и подоконник маминой каморки. Моя мама любила и любит растения и по сей день. Она часто говаривала, что в школьные году училась в спецклассе с ботаническим уклоном и обрела основательные знания и практику в области растений. Я же, напротив, лишь в последние годы достигла того, что растения не погибают у меня в первые недели. Ранее мне приходилось гостей предупреждать, чтобы они мне на день рождения не дарили растений в гостях.
Было ли в нашем доме что-нибудь русское? Немного, но что-то конечно. У нас был пузатый самовар, который мне очень нравился, но я не помню, чтобы он часто использовался. У нас также было несколько деревянных резных изделий с Русского Севера: птица счастья с распахнутыми крыльями, медведь на подставке, который танцевал, если дёргать за верёвочки, катящаяся на колёсах раскрашенная лошадь. Наверняка один или даже два комплекта матрёшек. Однако в большинстве случаев северный русский дух проникал в наш дом через картины моего отца и выражался, кроме моего отца, по крайней мере частично, и в моем характере и нраве.
В Вильянди и Лооди
Для меня, как это типично для эстонцев, детские воспоминания делятся на зимние и летние.
На лето нас с сестрой, как правило, отправляли в деревню. Не совсем к бабушке, потому что она стала уже
горожанкой, и, к сожалению, умерла довольно рано (1987). Дедушка же умер ещё до
моего рождения (1976). Так что у меня не было своих бабушек и дедушек. Но моё лето
и лето моей сестры проходили у наших родственников в городе Вильянди и вблизи
от него в Лооди. Из Вильяндиского уезда родом все родственники моей матери, и
поэтому я иногда шучу, что все, что во мне эстонского, относится к мулькам.
Поскольку
мама бóльшую часть лета работала, то она распределяла нас с сестрой на лето между своими родственниками,
между держащими хутор в Лооди семьёй тёти Хели и живущей в Вильянди сестрой
дедушки Линдой. Хели Мария Каху является
дочерью старшего брата моей прабабушки Анны, Мартина Каху. В семье Каху было
шесть братьев, а седьмым ребенком была их сестра Анна. По крайней мере два или
три брата работали школьными учителями, как и Анна. Мартин даже был директором
школы в Таллинне, прежде чем он в канун войны купил хутор в Лооди – на случай,
если все пойдет плохо. Таким образом тетя Хели и содержала хутор, одновременно руководя несколькими хорами в Вильяндимаа
и преподавая в Вильянди. Она многому научила меня – как обработке земли, так и
содержанию домашнего скота, да и просто жизни.
Живущая в Вильянди сестра дедушки
Линда Оя (бывшая Кару), была племянницей, дочерью брата бабушки. Её муж Эльмар умер,
и она делила дом на улице Техника с сестрой своего мужа, Эрнестиной, т.е. тётей
Эрной. У Линды не было своих детей, и
для нее, как и для Анетте, моя мама была немного за дочь. Линда была учителем
немецкого языка, однако у меня нет никаких
воспоминаний о её профессии или работе. В некотором смысле Линда была
для нас за бабушку. Он умерла, когда я была почти взрослой, и я сознательно смогла
с ней попрощаться. На похороны бабушки нас с сестрой почему-то не взяли, хотя мне
было семь, а сестре пять лет.
Линда
никогда не жаловалась, она держала кошек и кормила голубей. В её дворе можно
было увидеть гигантскую стаю голубей, а лестница её дома постоянно была покрыта
голубиным помётом. Сад Линды походил на дикие джунгли с таким количеством
растений и деревьев, что там никогда не было скучно. Там также водилось
громадное количество улиток, которых нас,
детей, заставляли время от времени собирать. Весной в этом саду цвело
бесконечное количество разноцветных тюльпанов, они настолько прекрасны в моих
воспоминаниях, что я никогда не встречала такую же дивную клумбу из
тюльпанов, как в саду Линды. У Линды
также была самая крупная в мире клубника, самый ароматный жасмин, самые оранжевые
ноготки и самые незабываемые незабудки. Этот сад был одним из чудеснейших садов
с таинственными дорожками и кучами компоста.
Если в нашей городской квартире был туалет, то в Вильянди удобство было во дворе, и ночью, конечно же, мы ходили на горшок, который стоял на кухне. Поэтому иногда, когда меня люди называли городской барышней, то я им искренне говорила, что я на самом деле знаю и помню, что такое «сходить на ведро», как косят сено или как выглядит коровья лепёшка.
Пруст был прав. Действительно, воспоминания состоят из
четких ощущений. Я понятия не имела, что запахи, особенно природные запахи и
цвета, играют такую важную роль в моей жизни.
После
того как я проводила одну неделю у Линды и одну неделю у Эрны – с Эрной мы с
удовольствием играли в настольные игры и карты, Линде же это не нравилось, ей нравилось
разгадывать кроссворды – то приезжала мама из Таллинна, отвозила меня в деревню
в Лооди и забирала оттуда мою сестру в
город, к Линде в Вильянди. В случае использования слова «город» всегда
необходимо было уточнять, имеется ли в виду Вильянди или Таллинн, потому что
родственники из Лооди называли городом Вильянди, мы же – Таллинн.
В Лооди жил и живёт по сей день один из самых важных и давних друзей моего детства, сын этого семейства Мартин, который старше меня на два года. Мы проводили лето вместе, нос к носу, а зимой мы переписывались с ним: обменивались то монетами, то марками, а также впечатлениями от жизни и школы.
В Лооди и у детей были свои обязанности. Если это не было время сенокоса, то всегда находилась какая-то грядка, которую нужно было прополоть, картофельная борозда, которую надо окучить, собрать ягоды, обломать глазкú на картошке или сделать что-нибудь другое полезное. Но хватало также времени заниматься всякими глупостями, обижать друг друга, поедать ягоды и яблоки, читать, играть в карты, совершать походы в чёртов овраг Лооди, а также купаться в озере Синиаллику, расположенном в четырех километрах, и практиковаться в прыжках в воду.
Сельский дом Лооди тоже был обставлен старой мебелью, купленной или приобретенной во время ликвидации усадеб. Все в этом доме было старым, а книжные полки были заполнены старинными книгами на немецком с готическим шрифтом. Особенно запомнилась серия энциклопедий «Mayers Konversations-Lexikon», изданная в XIX веке, которую мы время от времени осторожно листали и пытались читать по слогам.
Мой образ дома
Мое понимание дома выкристаллизовалось от сочетания
трех мест: нашей таллиннской коммуналки,
которая имела два адреса (один по улице Фельмани и другой по улице Вазе), дома
в небольшом городе с чудесным садом на
улице Техника в Вильянди и хутора Ристи
в уезде Вильянди, напротив поместья Лооди, где во времена моего детства ещё
держали скот и птицу. Если оглянуться назад, все эти места были насквозь
пропитаны менталитетом эстонского буржуазного времени, вещами того периода, сложившимися
тогда взглядами, присутствовала старина и свойственное ей достоинство.
Например, Линда никогда не обедала без хлебных тарелок и блюдец под чашкой.
В таллиннском доме и на хуторе Лооди было много богемности людей искусства и музыки, что и я, вероятно, научилась любить и ценить. И в моем доме тоже должен присутствовать упорядоченный хаос или определенная атмосфера, которая способствует творчеству. Если дом моих родителей был переполнен картинами, то в моем доме, видимо, слишком много книг. Но и искусства, особенно созданного моими родителями, в моём доме столь много, что все не умещается на стенах.
Я не могу сказать, изменились ли бы дома моего детства, будь они созданы в другое время. Возможно, именно советское время с его дефицитом всего сыграло важную роль в поддержании этой старой атмосферы, в том числе старинной мебели. В историях наших семей есть, правда, один сожжённый рояль по причине сложившихся обстоятельств, чьи ножки в настоящее время нашли новое творческое применение в одном из таллиннских художественных салонов.
Возможно, тот факт, что художники разных национальностей стали моими родителями, по крайней мере отчасти связан с тем временем, в котором они жили. Они оба жаждали чего-то другого, и нашли это, или надеялись найти друг в друге. Может быть, и в нас, в их детях. Возможно, в нас странным образом объединилось то, что передавалось от поколения к поколению с предыдущих времён, и то, что сами родители могли извлечь из своего времени – так как, будучи художниками в советской системе, они имели относительно хорошие условия труда.
Вероятно, правда и то, что мои родители разных национальностей не очень хорошо (по крайней мере, частично) вписывались в те миры, из которых они пришли. И этот факт определенно сплотил их. Я верю, что оба они вложили в своё творчество как самих себя, так и дух своего времени. Но это уже тема следующего рассказа.